Тридцатая глава.
О празднествах и развлечениях ительменов
У ительменов в течение всего года бывает только один-единственный праздник, приходящийся на ноябрь. По-видимому, в древнейшие времена это празднество было установлено их предками в целях возблагодарения бога за его дары. Однако с течением времени эту цель они настолько затмили различными глупыми и шутовскими дурачествами, что сейчас совершенно невозможно отгадать, ради чего это празднество было, собственно, установлено. Я думаю, что они назначили данное время для собственного своего развлечения, безо всякого отношения к богу. Ительмены справляют этот праздник тогда, когда лов рыбы у них совершенно прекращается и когда закончена заготовка зимних запасов. Этот праздник они на Большой реке именуют «нусакум», не умея сами объяснить значение и происхождение этого слова.
Главный момент торжества состоит в том, что они свешивают в дымовое отверстие юрты на ремне березу, которую они называют «усауч». Люди, находящиеся вне жилья, держат эту березу и не хотят дать втянуть ее в юрту, находящиеся же в последней, в свою очередь, стараются изо всех сил заполучить ее. Добившись последнего, они от радости поднимают громкий крик и шум. Затем они изготовляют из травы чучело волка, называют его «хетейху», очень тщательно берегут его в течение года и утверждают, будто оно вступает в брак с ительменскими девушками и предохраняет их от рождения у них близнецов: рождение близнецов ительмены считают жестоким несчастьем и страшным грехом. Полагая, что лесной волк виноват в этом, они все выбегают из жилья и бросают роженицу на произвол судьбы; если же близнецы оказываются вдобавок девочками, то грех и беда еще больше.
В самой юрте ительмены помещают резное изображение, очень мало напоминающее человеческую фигуру и долженствующее изображать Виллюкая, или бога грома, вселяющегося в шаманов. Перед этим идолом они ставят разные кушанья и кладут большую ложку. Они уверяют, будто в прежние времена бог ел с ними и принимал их угощение. После угощения они сжигают идола. До сих пор мне не удалось собрать на этот счет больше сведений; но так как этот обряд может немало способствовать выяснению основ и происхождения всего вопроса, то я впредь приложу всяческие старания пополнить приведенные данные, тем более что и рассказы об этом, и самые обряды в различных местах различны. До прибытия русских на Камчатку ительмены праздновали это торжество в течение четырех недель, от новолуния до новолуния, а позднее — только в продолжение двух-трех дней; теперь же наступил и этому празднику конец. Кроме исполнения указанных обрядов, развлекались еще едою и взаимным угощением, разными песнями и всевозможными плясками, продолжавшимися круглые сутки без передышки[1].
Кроме названного торжества, были у них и другие праздники.
В былые времена эти народности не знали ни торговли, ни займов, ни ссуд. Кто опасался, что у него кое-когда может оказаться в чем-нибудь нужда, отправлялся к лицу, пользующемуся его особым доверием, и предлагал ему свою дружбу взамен на дружеское к нему отношение. Весь секрет тут заключался в том, что они тем самым, в случае нужды, обязывались по мере сил служить и помогать друг другу. Когда такое предложение дружбы принималось благосклонно, явившийся за заключением дружбы звал своего друга к себе в юрту и удалял из нее всех членов своей семьи. Затем оба ительмена раздевались донага, так что только половые органы их оставались прикрытыми футлярами, и хозяин так жарко натапливал свое жилище, что едва можно было терпеть жару, причем он варил в изобилии пищу, закрывал затем плотно жилье со всех сторон и приступал к угощению своего друга, который должен был съесть столько, сколько было угодно хозяину; когда же гость был не в силах больше есть и успел наблевать вокруг себя столько, что нельзя было поверить, что это мог изрыгнуть один человек, хозяин все еще продолжал угощать его, а затем лил воду на раскаленные камни, так что гостю становилось уже невмоготу вынести все это. Тогда хозяин выходил во двор и по усмотрению своему охлаждался, гость же в качестве первого доказательства своей дружбы должен был все еще жрать и потеть. Когда он уже был более не в силах выдержать это, хозяин вступал с гостем в переговоры насчет выкупа. Гость приказывал хозяину взять себе его собак, платье, нарты и все, что он найдет у него, и когда все это было наконец забрано, хозяин открывал все отверстия и дымоходы, так что его друг мог снова прийти в себя; в свою очередь хозяин преподносил ему подарки, но гораздо хуже полученных: плохих собак, ветхое, поношенное платье и т. п. Таким образом, договор о дружбе считался состоявшимся. Когда же приятель в свою очередь являлся в гости к своему другу, ему приходилось выдержать такую же точно баню и подвергнуться такому же угощению. После этого в случае нужды один брал у другого все необходимое без отдачи[2].
С ворами или обманщиками ительмены отнюдь не заключали дружбы, считая таких людей очень несчастными, и поэтому в случае нужды им негде было ничего достать и приходилось погибать.
Такая дружба, по-видимому, основана на том же, что и братство студенчества, когда люди во имя дружбы напиваются и наедаются до чертиков. Кажется, впрочем, что устроили ительмены это для того, чтобы никто под видом дружбы не вздумал обманывать другого, потому что тот в первую голову должен подвергнуться обману и мучениям, кто добивается чьей-либо дружбы. Кроме того, тут, по-видимому, кроется и другая мысль, нравственного порядка, а именно, что ради интереса не следует заключать дружбу, а заключив ее, надо быть стойким даже при тягчайших обстоятельствах. Обычай этот русские на Камчатке называют «дружиться», ительмены же теперь смеются над этим глупым обычаем. В силу этого обычая установилось также определенное право гостеприимства, по которому один ительмен приглашал другого, если ему удавалось на охоте убить зверя, поесть с ним его мясо, а также позволялось свободно посещать друг друга для развлечения.
И вот, когда кто-нибудь убивал медведя, что считалось в былые времена особою честью и славою для охотника и его семьи, такой охотник созывал к себе всех своих друзей с их женами и детьми. Собравши всех, хозяин рассаживал гостей в один ряд вдоль стен юрты, после чего сам он раздевался совершенно догола, оставив на теле только привязанный футляр для genitalia (полового органа); затем он приказывал развести огонь и поставить на него котлы с водою, прося при этом некоторых из гостей помочь ему снять с медведя шкуру. Когда это было сделано, гости сперва срезали сало и клали его ремнями в котел, потом снимали мясо с костей и, наконец, собирали кишечный жир зверя. В это время некоторые из присутствовавших начинали плясать, старики же вели беседы, сложив на коленях руки. Через некоторое время после начала пляски старики один за другим также вскакивали со своих мест и присоединялись к хороводу.
Когда еда была сварена, хозяин снова рассаживал всех в один ряд, забирал в левую руку ремень сала, а нож в правую, начинал подходить к каждому по очереди и со словами: «Вот, держись!» — совал ему сало в рот. На это гость отвечал: «Сипанг» («О горе»), хозяин же срезал ему ножом сало перед ртом и заставлял проглотить кусок. Таким способом он переходил от одного к другому вплоть до последнего, отдавая ему остаток полосы сала, считавшийся наиболее лакомым куском. Затем мясо, кишечный жир и внутренности медведя так распределялись одинаковыми порциями, что каждому доставалось равное количество этого угощения. Эти порции раскладывались по деревянным ящичкам, кусочкам березовой коры и деревянным мискам и раздавались всем поровну, так что самый старший из присутствоваших получал не больше, чем маленький ребенок.
Однажды во время еды какая-то женщина заснула. Когда ее разбудили, она склонилась перед шкурою медведя и сказала: «Ах, я уснула. Я так устала, и ты не обижайся на меня за это. Впрочем, ты простишь, конечно, потому что ты тоже спишь, когда возвращаешься, утомленный, из леса; кроме того, ты спишь ведь в продолжение целой зимы, и мы тебя за это не упрекаем».
Все присутствовавшие похвалили эту женщину за то, что она так хорошо примирила с собою кусочек медвежатины, поданной ей на коре, и принесла извинение медведю.
Когда наконец пиршество закончено, хозяин ставит перед гостями голову медведя, украшает ее гирляндами из травы эхей и сладкой травы, одаривает всякими безделушками и извиняется за ее умерщвление, сваливая вину на русских, на которых убитый и должен направить свой гнев; в заключение он умоляет медведя не сердиться на него, а также сообщить своим сородичам, какое ему здесь было устроено угощение, чтобы и те в свою очередь безбоязненно пришли к ним.
Точно такой же обряд совершается ительменами и над тюленями, морскими львами и другими животными, с которыми они обходятся таким же образом.
Кроме таких торжеств, ительмены в былые времена устраивали столько праздников, сколько им хотелось. Обычно праздники эти начинались в декабре, когда все зимние запасы были налицо. Тогда туземцы целыми семьями отправлялись друг к другу в гости и проводили время чрезвычайно приятно за едой, пением, плясками и забавными рассказами, обычно касавшимися их творца, бога Кутки. Старики вспоминают о том веселом времени не иначе как с горечью; их с трудом можно заставить что-нибудь рассказать, потому что память о приятном прошлом вызывает в них неудовольствие настоящим, нынешние посещающие их в зимнее время гости принимают, правда, от них угощение, но в ответ на это угощают их самих только побоями и ругательствами.
Кроме еды, ительмены развлекаются также пением. Поистине можно сказать, что этот веселый народ перед прочими племенами особо одарен музыкальными способностями, и невозможно в достаточной мере надивиться только на их песнопения, не содержащие в себе ничего дикого; напротив, их песни так мелодичны и настолько стройны по соблюдению правил музыки, ритму и каденциям, что этого никак нельзя было бы предположить у такого народа[3]. Если сопоставить с этим кантаты великого Орландо Лассо[4], которыми он развлекал короля Франции после кровавой парижской Варфоломеевской ночи, то они, помимо, конечно, искусности в смысле приятности производимого впечатления, значительно уступают ариям ительменов, которые умеют не только петь в унисон, но и подпевать друг другу на два-три средних голоса. Равным образом славится сладостью своих голосов и приятностью мелодий дикий народ чукчи, и я впоследствии собираюсь переложить на ноты несколько образчиков их песен, как я это сделал по отношению к ительменам.
Анадырские казаки не нахвалятся, как сильно умеют волновать слушателей чукчи и печальными, и веселыми своими песнями, вполне приковывая к себе внимание слушателей. При приближении казаков чукотские женщины и девушки, подобно настоящим обольстительницам, усаживаются на морском берегу или же на ближайших утесах, чтобы заманить к себе казаков.
Ительмены внимательно, подобно обезьянам, следят за всем, думают о виденном и излагают свои мысли в форме нерифмованных песен, так как они решительно ничего в поэзии не смыслят. Что касается содержания тех песен, то в них нет ничего глубокого, а выражаются простые мысли о вещах, показавшихся им странными или возбудивших их удивление. При этом они в конце каждой строфы чаще всего заменяют слово «русский» повторением слова «ступей», а слово «якут» — словом «ногэи». Вместо выражения «ступей», если у них нет словесного материала при пении, они употребляют слово «ханина»*. Эти слова они, согласно требованиям мелодии, расчленяют на слоги, растягивая или сокращая их.
Они слагают песни на всех вновь к ним прибывших и рассказывают о том, что они усмотрели в них смешного или чуждого им, причем порою допускают и легкую сатиру, как они поступили, например, в песнях в честь подполковника Мерлина, майора Павлоцкого и студента Крашенинникова. Если у них нет другого сюжета, то они останавливаются на бабочке, летучей мыши и т. п. и описывают природу и свойства с пародиею на любовное увлечение какого-нибудь своего соперника, на что вся песня и рассчитана. Такого соперника они называют общим именем «баюн», то есть «ухажер», что означает ительмена, бывшего раньше великим ловеласом и отличавшегося очень значительною красотою и необыкновенной влюбчивостью[5].
В своих сатирических песнях ительмены признаются своим любовникам в любви, указывают время и место, когда и где их можно встретить, а также то угощение, на которое они при этом рассчитывают.
Авторами таких текстов и композиций являются исключительно женщины и девушки. Они обладают также весьма нежными и приятными голосами и чрезвычайными голосовыми средствами для быстрых переходов и модуляций, одним им свойственных; этим способностям ительменок едва ли сразу сумели бы подражать даже итальянцы. Во время пения они настолько утихомириваются и так сдержанны, что тут ясно проявляется их особая предрасположенность и склонность к музыке; на этом же основании можно судить и об их восприимчивости ко всем прочим вещам и о податливости их характера.
Удивительно, что ительменам, таким большим почитателям музыки, не пришло в голову изобрести музыкальные инструменты. У них существует только один-единственный вид дудок, изготовляемых из стеблей камчатского вязовика (Ulmaria). Это растение носит у нас название «шаламей». Страленбергу будет нетрудно вывести из этого термина происхождение немецкого слова schalmey (свирель).

Майора кокасоль таолагах киррлхуаэль кукарэт тамбэсаи.
Если бы я был поваром майора, я снял бы кипящий котел с огня.
Прапорщик кокасоль таеелизик кишарултлель кукарэ тамбасен.
Если бы я был поваром прапорщика, я всегда в перчатках снимал бы котел.
Паулоцка каеинцаэ таеелезик чинкалогальстугаль кининггизик.
Если бы я был Павлоцким, я повязал бы себе белый галстук.
Паулоцка Иваннель таеелезик цатшало-чулкиль кининггизик.
Если бы я был Иваном Павлоцким, я бы носил красные чулки.
Студенталь таеелезик битель гитаешь квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы всех девушек.
Студенталь кэинцаз таеелезик ерагут квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы рыбу ураноскоп*.
Студенталь таеелезик битель силлахи иираэт там безен.
Если бы я был студентом, я поснимал бы все орлиные гнезда.
Студенталь таеелезик битель адонот квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы всех морских чаек.
Студенталь таеелезик битель пита таец кауэчас квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы горячие ключи.
Студенталь таеелезик битель енсют квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы все горы.
Студенталь таеелезик битель даечумкутэц квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы всех птиц.
Студенталь каи инцах таеелезик юс куэин енгудец квиллисин.
Если бы я был студентом, я описал бы всех морских рыб.
Студенталь таеелезик уацхат тиллэсиз сисчуль татэнус.
Если бы я был студентом, я снял бы красную кожу с форелей и набил бы ее травою.
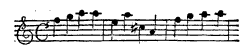
1. Гна- кое де о- лосканга ва-ро-ка а
2. Ка-панинача у-гарахн.

ебейтац синтес Бине сольтес комчул беллон.
Бине сольтес комчул беллон.
Весь смысл (sensus) песни таков: «Я потерял свою жену и душу; опечаленный, пойду я в лес, сниму и поем там коры; затем я рано встану и сгоню утку аангич с суши в море и стану всюду искать, не найду ли где и не встречу ли свою любимую».
На Большой реке сложена про утку аангич другая песня, текст которой, однако, чрезвычайно бесстыден и неприличен:
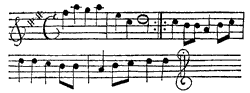
Ительменское Стунуней или Ханнинна
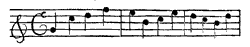
Ха- ни- на- ха ха- ни- на ха- нина- ха ха-

нина. Хани- на- ха ханинина на- ха- нина

ха- ни- на- ха ха- ни- на- ха.
Ительменская песня

Кроме музыкального времяпровождения, развлечением ительменов являются также разные пляски. Первый вид пляски распространен главным образом на Курильских островах и на Лопатке, равно как и среди всех ительменов, живущих между Лопаткою и Авачею и выезжающих в море на промысел в байдарах. Этот танец издавна заимствован у куши, или островитян, и стал пляскою моряков. Русские именуют такие пляски словом «каюшки». Живущие на реке Камчатке называют эти танцы «хаюшуукинг», откуда и произошло русское обозначение их. Жители Большой реки называют их «ккуоскина», курильцы же — иноземным термином островитян — «куши римсах».
Пляска состоит в следующем. Десять мужчин и женщин, как холостых, так и состоящих в браке, одетых в лучшее свое платье и кухлянки, образуют круг, медленно начинают двигаться и в такт поднимают одну ногу за другою. Каждый участник пляски должен в качестве лозунга произнести несколько слов, которые все остальные повторяют вслед за ним таким образом, что, пока половина участвующих в танце произносит последнее слово, другая половина говорит первое; происходящий при этом сильный шум напоминает скандировку стихов. Все произносимые ими слова заимствованы из практики их промысла, притом из языка куши, так что ительмены с мыса Лопатка сами не понимают большинства произносимых во время танца слов. При этом они не поют, а однотонно говорят слова, например, в таком роде:
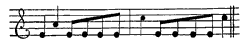
Ипсаинку и-ра-ван- та ткоекаки мипброппа.
Оттолкни байдару, стреляй, держи к берегу.
Дикость пляски вполне соответствует варварскому крику, ее сопровождающему, но туземцы страстно увлекаются им; начав танец, они кажутся охваченными бешенством до такой степени, что уже не в силах прекратить его, хотя они страшно утомляются, и пот льется с них потоками. Кто сумеет дольше всех выдержать, считает это великою для себя честью, чем и снискивает благоволение женщины, в это же время сговаривающейся с ним взглядами.
Под одним лозунгом они пляшут в течение часа, причем круг танцующих все увеличивается, потому что в конце концов никто из находящихся в юрте не в силах удержаться от участия в пляске. Под конец к пляшущим пристают даже самые глубокие старики, употребляющие на это дело последние свои силы. Часто такой танец длится 12–15 часов, с вечера до позднего утра. Я, впрочем, не мог усмотреть в этом развлечении ни малейшей приятности или удовольствия. Если сопоставить эти пляски с описанием американских танцев в Канаде, которое дает барон Лаондан, то мы найдем здесь поразительное сходство.
Кроме такой пляски, женщины знают и другую, специально женскую: они выстраиваются в два ряда, повернувшись друг к другу лицами, произносят свой лозунг и остаются на месте, положив себе обе руки на живот, приподнимаются на пятках и двигают руками, но так, впрочем, что ладони их не покидают своего места на животе.
Третий вид танца состоит в том, что все мужчины прячутся по разным углам; затем один внезапно выскакивает, как бешеный, складывает руки и бьет себя ими то в грудь, то в бок, иногда приподнимая их над головою, дико кружится в разные стороны и строит различные причудливые гримасы. После этого к нему подскакивает второй, третий и четвертый, подражают его движениям, но при этом постоянно двигаются по кругу.
Четвертый вид пляски сводится к тому, что участники его, сидя на корточках, подобно лягушкам, прыгают, образуя круг, хлопают в ладоши и делают друг перед другом разные причудливые движения. И тут танец начинает один мужчина, к которому постепенно присоединяются другие, подобно лягушкам выпрыгивая из своих углов.
Собственно ительмены имеют, в свою очередь, свои старинные, особые пляски, которые они у Пенжинского моря называют «хаютели», а на реке Камчатке — «кузелькингга». Главный танец сводится к тому, что все женщины и девушки садятся кружком, потом одна из них вскакивает, поет песню и поднимает руки, на средних пальцах которых висит по длинной пряди мягкой травы эхей. Этими прядями травы женщины всячески размахивают, при этом так быстро сами кружатся и вертятся, что кажется, будто все их тело трясется от лихорадочного озноба, причем отдельные части тела совершают каждая свое особое в разные стороны движения. Их ловкость трудно описать словами, и ей нельзя в достаточной степени надивиться. Во время пения они подражают крикам разных животных и птиц, выделывая совершенно неподражаемые горловые фокусы: кажется, будто слышишь одновременно по два–три голоса. Этим мастерством отличаются особенно женщины в Нижнем остроге и по реке Камчатке.
На Камчатке у них есть и свой особый круговой танец. Но так как мне пока еще не довелось его видеть, то я расскажу о нем впоследствии, в своих «Дополнениях».
Теперь, после описания плясок, несколько слов о театральных представлениях ительменов. Материалом для их комедий служит либо новые для них привычки и манеры приезжих, либо забавные сцены, изречения и случаи из жизни их собственного рода. Как только кто-нибудь прибывает на Камчатку, первое, что с ним делают, это дают ему прозвище на их языке в зависимости от обратившего на себя внимание какого-либо свойства новоприбывшего. Если кто-либо заглянет к ительменам в жилье или хотя бы короткое время пробудет в их остроге, они, в силу прирожденного любопытства, замечают его походку, мимику, речь, привычки, как хорошие, так и дурные. Как настоящие mimi (лицедеи), камчадалы умеют так хорошо изобразить кого угодно просто мимикою или же в разговоре, что сразу узнаешь, кого, собственно, они имеют в виду, хотя никто не стал бы и предполагать в них такой способности. И нет никого, кто за время своего пребывания среди них не подвергся бы их оценке и чье поведение не стало бы предметом публичного воспроизведения. При этом они запоминают немецкие слова и воспроизводят скверное произношение русской речи у иностранцев. Господина капитана Шпангберга они копируют и команды его оснащают terminis nauticis (морскими выражениями); меня они пародируют, как я расспрашиваю их и записываю сведения об их нравах и обычаях, причем один туземец играет роль переводчика; другого они изображают в состоянии опьянения, запретных удовольствий и ночных кутежей. При этом они не забывают курить и нюхать табак, чихать, сморкаться, уговаривать людей, задевать собеседника словами, порою даже угощать ударами. Лишь только у них выдается свободная минутка, они тотчас же упражняются в изображении кого-либо, что бы он ни делал.
Для всех таких развлечений у них употребляется чаще ночное время, чем дневное. Если им надоедает подобное удовольствие, они переходят к рассказам о своем Кутке и основательно, хотя и вежливо, издеваются над ним. Один при этом дразнит другого. Покончив с этим, они подражают крику разных птиц, а также свисту ветра и вообще всему, что попадается им на глаза. На основании этого можно в достаточной мере оценить восприимчивость камчадалов и живость их воображения.
Кроме этих mimi (актеров) и pantomimae (представлений), есть у них также шуты или люди, во время их празднеств готовые играть роль таковых. Однако их шутки так циничны, что без чувства стыда их не расскажешь. Они дают запрячь себя в обнаженном виде в сани и возят на себе желающих, причем с ними обходятся как с собаками, и такие шуты жрут наподобие псов и выделывают вообще все то, что делают собаки.